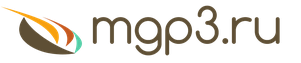Объединение «ЛЕФ. ЛЕФ (Левый фронт искусств) это
Глава двадцать первая
…Другие поэтические соратники Маяковского (Асеев, Кирсанов) не сумели столь решительно и последовательно разорвать пуповину, всё ещё связывающую их со Шкловским и др. Несмотря на всю близость этих поэтов к революционному пролетариату, в их современной поэтической линии всё ещё наблюдаются известные тенденции к консервации лефизма.
Надо думать, что с поворотом советской литературы к новым задачам соц. строительства лефовские пережитки будут ими преодолены.
В довольно искренней и очень несправедливой книге Юрия Карабчиевского «Воскрешение Маяковского» (1983) говорится: «Трое самых главных, самых деятельных и самых шумных поэтов-футуристов, по отдельности так живо описанных Чуковским, сегодня представляются нам чем-то усреднённым, чем-то вроде почётного караула на встрече великого Маяковского, где мелькают лишь светлые пятна лиц и перчаток. А порой и совсем уж из другой области: вроде урок-телохранителей вокруг большого пахана… Кто из нас с сегодняшнего расстояния отличит Каменского от Кручёных и обоих вместе - от Бурлюка? Кто, не будучи специально уполномоченным, добровольно захочет этим заняться? Совершенно очевидно, что те различия, которые нам удалось бы выявить, проделав неимоверно скучную работу, ничего не изменили бы в нашем отношении к этим безвозвратно забытым авторам» {162} .
Это утверждение неверно, оно исходит как раз из официального образа Маяковского.
Есть одна история, которую, повторяясь, мне рассказывали ещё в юности.
В Рязани находилось овеянное легендами воздушно-десантное училище. В него было довольно трудно поступить, и вот не прошедшие по конкурсу юноши не уезжали сразу домой.
Вернее, не все уезжали, а некоторые из них поселялись в лесу близ учебного полигона и вели жизнь военного лагеря.
Наиболее отчаянные доживали в этом лагере до снега - и всё потому, что иногда к ним приходили офицеры из училища и зачисляли в штат.
Историю эту рассказывают по-разному, иногда с фантастическими деталями, но суть одна: доказать отчаянной преданностью свою нужность.
В случае с будущими парашютистами что-то подсказывает мне, что это не бессмысленный ход.
Но я хочу рассказать о другом.
История Левого фронта искусств, история ЛЕФа, чем-то мне напоминает юношей в рязанском лесу.
Группа людей декларировала идеи революции и хотела быть частью революции. Они хотели быть в революции, а её время кончалось.
Призывники раздражали своим жаром и желанием продолжать эксперименты. Время стремительно работающих социальных лифтов кончалось.
Оно, собственно, уже кончилось, когда ЛЕФ был создан - справочники спорят - в 1922 или 1923 году.
Люди, создавшие литературно-художественное объединение, декларировали революции свою преданность.
Но революции уже не было. Приём был закрыт.
А когда они захотели декларировать преданность власти, ничего не вышло. У власти уже было много преданных слуг - талантливых и не очень, с командирскими знаками различия и без оных.
Поэтому их жизнь в заповедном лесу русского авангарда была обречена.
Но в таких случаях всегда остаётся надежда, что ещё чуть-чуть, и вот тебя заметят и примут в семью.
Но дни проходят за днями, ты сидишь на выставке «Двадцать лет работы», а знакомых лиц нет.
А пока есть ещё лет семь на эксперименты.
В книге «Жили-были» Шкловский писал об этом так:
«Чтобы хоть как-то представить, что это было за время, расскажу, как мы печатали „Поэтику“ и „Мистерию-буфф“ Маяковского.
Был 1919 год. Юг России был захвачен белогвардейцами. У Петербурга не было окрестностей.
Когда мы издавали газету, у нас не было муки, чтобы заварить клейстер, и мы газету примораживали водой к стенке. Такое годится только для зимы. Летом ищите другой способ. <…>
Говорю об этом, понимая, что, возможно, кое-что не имеет отношения к теории искусства, но имеет отношение к теории времени. Это время, когда люди ходят по проволоке, когда надо, и перейдут, и не упадут, и гордятся работой, гордятся умением.
В журнале „ЛЕФ“, журнал толстый, был один рабочий, один журналист, а редактором был Маяковский. И хватало.
Напутали мы достаточно. Но сделали мы больше, чем напутали» {163} .
Кроме журнала - их, кстати, было два: «ЛЕФ» (1923–1925) и «Новый ЛЕФ» (1927–1928) - объединение содержало ещё много чего. Структура этого объединения напоминала писательские союзы.
История ЛЕФа, как ни странно, не описана. Существуют тысячи книг и, наверное, сотни фильмов, посвящённых его членам, а спроси обывателя, что такое был ЛЕФ, так скажут, что это - Маяковский.
Оно, конечно, верно - говорим: «Ленин», а подразумеваем: «Партия».
И про Маяковского - верно.
Обыватель, чуть более просвещённый, назовёт имена Брика и Шкловского, Родченко и Степановой.
Но классический путь литературного течения, которое собирается преобразовать мир или, на худой конец, перевернуть искусство, требует художественного описания.
Классический путь - это всегда начало в узком кругу, группа единомышленников, что собирает в гараже автомобиль, самолёт или компьютер. Потом одни поднимаются выше и случаются первые ссоры.
Затем вокруг них формируется армия сторонников, и вот они уже - сила.
Потом армия терпит поражение. Или нет, она не терпит поражение, а просто вожди покупают себе новые мундиры и зачищают приближённых. Волнами ложится в волчьи ямы комсостав, а вожди канонизируются после похорон. Мемуары становятся похожими друг на друга, потому что сладкий хлеб победы общего дела сплачивает бывших врагов. «Благо было тем, кто псами лёг в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками» - если армия разбита, то пришедшие из плена пишут оправдательные и обвинительные мемуары.
Современники же записывают в дневник:
«Разговор со Шкловским по телефону:
Скажите, пожалуйста, Виктор Борисович, почему Маяковский ушёл из Лефа?
Чтоб не сидеть со мной в одной комнате.
А вы остались в Лефе?
Разумеется, остался.
А кто ещё остался?
А больше никого» {164} .
Это из записных книжек Лидии Гинзбург 1920-х годов.
В знаменитой «Литературной энциклопедии», что издавалась с 1929 по 1939 год, и всё равно её последний том куда-то запропастился, то ли потому, что погибло слишком много писателей, то ли оттого, что посадили слишком много авторов статей об этих писателях, о ЛЕФе говорится так:
«ЛЕФ [Левый фронт искусств] - лит<ературн>ая группа левопопутнического толка, существовавшая с перерывами с 1923 до 1929. Основателями и фактически её единственными членами явились: Н. Асеев, Б. Арбатов, О. Брик, Б. Кушнер, В. Маяковский, С. Третьяков и Н. Чужак. Впоследствии к Л<ефу> примкнули С. Кирсанов, В. Перцов и др. Л<еф> имел отделения в УССР (Юголеф). К Лефу идеологически примыкали сибирская группа „Настоящее“ (см.), „Нова генерація“ (см.) на Украине, „Лит-мастацка коммуна“ (Белоруссия), закавказские, татарские лефовцы, а также отдельные литературоведы-формалисты, как В. Б. Шкловский, лингвисты (Г. Винокур) и др.».
Это очень интересная статья, и, будь моя воля, я бы процитировал её почти полностью - потому что в ней сохранился язык яростной партийной борьбы, разделение на чистых и нечистых и непримиримые оценки литературного врага.
Вовсе не из-за того, что в ней перечислены участники литературной группы, спорившей с «официальным» РАППом, кто более предан революции. И хронология жизни объединения известна и так - и о манифесте русских футуристов «Пощёчина общественному вкусу», и о газете футуристов «Искусство коммуны», и то, что журнал «ЛЕФ» просуществовал до 1925 года, и о том, как в 1927 году возник «Новый ЛЕФ», просуществовавший год, и о возникновении в начале 1929 года «Революционного фронта» (РЕФ), и об окончательном распаде всего, после того как Маяковский незадолго до смерти вступил в РАПП.
Участников группы, в разной мере приближённых к её центру и по-разному участвовавших в литературном процессе, было множество. Пастернак и Кручёных, Шкловский и Каменский, Кассиль и Незнамов, а также Родченко со Степановой, Татлин и Эйзенштейн, Кулешов и Вертов, Козинцев и Юткевич. Близки ЛЕФу были и архитекторы. В его рамках было образовано Объединение современных архитекторов. Про ЛЕФ, как говорилось, написано множество книг - процесс его изучения начался ещё при его существовании и приобрёл невиданный размах в момент послевоенного возрождения авангарда - сперва на Западе, а потом и на родине объединения.
Давняя энциклопедия, чьё издание было оборвано, не устарела.
Дело вот в чём: литературная энциклопедия констатировала официальную оценку произошедшего.
В сказочный мир ЛЕФа, к его землянкам пришли не официальные люди за рекрутами, доказавшими свою преданность. Нет, пришёл новоназначенный хмурый лесник и разогнал всех - и романтиков, и карьеристов.
Причём разогнали их с такими формулировками, что хуже волчьего билета.
Энциклопедия сообщала:
«Несомненна мелкобуржуазная природа революционности раннего русского футуризма, вернее, того крыла, которое было представлено и возглавлено Маяковским. <…> Неспособный подняться до обобщений, вскрыть глубокие связи явлений, лефизм так. обр. стремится создать не столько осмысляющую, сколько регистрирующую литературу - „литературу факта“. „Фактография“ Лефа - это бессилие, возводимое в добродетель, бессилие подняться от восприятия явлений к познанию их сущности, законов их движения, не ограничивающегося конечно одним настоящим, как хотелось бы лефовцам.
<…> Теоретическая концепция лефов в настоящее время в основном разоблачена. Однако никак нельзя утверждать, что ликвидирована опасность лефовских влияний на пролетарское литературное движение» {165} .
Маяковского, когда он стал валютой, - ревниво делили. «Книга его <Шкловского> о Маяковском, - говорил А. Фадеев, - получилась обывательской книгой. В ней Маяковский вынут из революции, он даже вынут из поэзии, он заключён в узкую сферу кружковых, семейно-бытовых отношений. Получается, что Маяковского сформировали чуть ли не двое-трое его ближайших друзей. А между тем, можно по-разному относиться к бытовому окружению Маяковского, но этим никак и ни с какой стороны нельзя определить и охарактеризовать его поэзию» {166} .
На школьных зданиях старого времени история русской культуры изображалась просто и доходчиво - в гипсовых белых кругах поверх красной кирпичной кладки. Естественные науки представлял Ломоносов (впрочем, он представлял и начало литературы). Затем был представлен профиль с бакенбардами, а с другой стороны от входа были представлены Горький и Маяковский. Гипсовый Маяковский был образец искусственных посадок, та картошка, которой было разрешено спасаться в эпоху посадок настоящих.
Метафора гипсового Маяковского преследует мир много лет.
Деньги-тиражи-деньги-штих, марксово кладбище, марсово капище, революция пожирала своих поэтов - это история всей русской - советской литературы прошлого века. Только довольно длинная - нужно пересказывать многое, и для этого мало десятка книг.
К тому же жухлая, как октябрьские листья, летопись литературной борьбы не имеет достойного слушателя. Слушатель замешает её иной драматургией - личными отношениями участников. Любовными квадратами и многоугольниками - даже на истории тирана разговор не задерживается, и быстро совершается переход от тиранов к женщинам.
Лиля Брик прожила длинную жизнь, много кого повидала, и наконец прах её был развеян по ветру на одной из полян под Звенигородом. Споры об этой женщине, конечно, не споры о Сталине.
В спорах о ней возникают два сюжета на одном материале.
Первый - это история мудрой и прекрасной женщины, которая осветила собой жизнь большого поэта Маяковского, затем помогла словом и делом многим другим людям - вплоть до режиссёра Параджанова и поэта Сосноры - и стала одним из символов русской литературы XX века.
Сюжет второй - это история не очень умной, но практичной женщины, умело пользовавшейся своим животным магнетизмом и получавшей пожизненную социальную ренту с имени большого поэта.
Спор между защитниками этих взаимоисключающих конструкций может продолжаться бесконечно.
Каждый из них трясёт цитатами из писем и мемуаров (часто одними и теми же).
Время от времени противники делают шаги друг к другу, каким-то образом объясняя известные им события.
Письма женщины большому поэту почти не требуют пародирования, раз от раза повторяясь: «Телеграфируй, есть ли у тебя деньги. Я всё доносила до дыр. Купить всё нужно в Италии». И если женщина лезет груздем в кузов, занимая кадровую позицию жены, то вместе с социальными дивидендами налагает на себя обязательства. Если большой поэт неотвратимо двигался к самоубийству, то «Куда глядела жена?» - закономерно спрашивает обыватель.
Другой обыватель-наблюдатель справедливо замечает, что какой-нибудь большой поэт при живой жене жил с другой женщиной, а в целом история знает и более причудливые человеческие отношения, и вообще лезть в постель к большим поэтам - неприлично.
Ему, в свою очередь, возражают, что у поэтов, больших и малых, публичный «продукт» неразрывен с личной жизнью, и если для понимания научной работы физика Льва Ландау знания о его романах не нужны, то для понимания поэтической работы Маяковского этого знания не избежать.
Поэт как бы подписывает контракт на публичность личной жизни - с каждым посвящением, с каждым упоминанием или отголоском реальных событий в стихах.
Одна из точек зрения (весьма распространённая, но не факт, что точная) была высказана Ярославом Смеляковым. Он написал стихотворение, имевшее вполне детективную историю публикации. По слухам, неизвестные люди даже выкупали тираж альманаха «Поэзия» за 1973 год, чтобы его уничтожить. В стихотворении, обращённом к Маяковскому, говорилось, в частности:
Ты себя под Лениным чистил,
и в поэзии нашей нету
до сих пор человека чище.
Ты б гудел, как трёхтрубный крейсер,
но они тебя доконали,
эти лили и эти оси.
Не задрипанный фининспектор,
не враги из чужого стана,
а жужжавшие в самом ухе
проститутки с осиным станом.
Эти душечки-хохотушки,
эти кошечки полусвета,
словно вермут ночной, сосали
золотистую кровь поэта.
Ты в боях бы её истратил, а
не пролил бы по дешёвке,
чтоб записками торговали
эти траурные торговки.
Для того ль ты ходил как туча,
медногорлый и солнцеликий,
чтобы шли за саженным гробом
вероники и брехобрики?!
При этом стихотворение перепечатывали на машинке, оно ходило по рукам.
Я видел эти «слепые» перепечатки. Тут орфография и пунктуация машинописи сохранены, но год не указан, что в данном случае принципиально.
Причём Бриков не любили «с обеих сторон», как и люди простые, которым нравилась простая история о том, как попользовались влюблённым поэтом, так и люди вполне литературные.
Лидия Чуковская как-то заметила, что плохо представляет в этой компании Маяковского. Ахматова возразила ей: «И напрасно. Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами. И вы, и не вы одна неправильно делаете, что в своих представлениях отрываете Маяковского от Бриков. Это был его дом, его любовь, его дружба, ему там всё нравилось. Это был уровень его образования, чувства товарищества и интересов во всём…» {167}
Наконец, бывает, в разговор о судьбах поэтов вторгается фактор личный, фактор личных отношений с людьми, которые знали поэтов и их женщин (и этот фактор есть у всякого, и у меня тоже - не всякий захочет обидеть друзей и знакомых, пусть даже косвенно). Настоящий разговор начинается тогда, когда уходят из жизни все из них - до третьего колена.
С Лилей Брик - очень интересная история.
Разговор о ней так сложен потому, что очень сложно выдержать достойный тон.
Бриков давно ругали - ещё в конце 1960-х, причём на защиту «вдовы Маяковского» встали очень разные люди - от Константина Симонова до Виктора Шкловского.
Ничего особенного в этих статьях нет.
Просто они были напечатаны в мире с ещё высокой ценностью печатного слова. В том мире за публикацией следовали «организационные выводы». И как раз от оргвыводов приходилось защищаться. У Бенедикта Сарнова в мемуарной записи «У Лили Брик» этой истории посвящено несколько страниц:
«Рассказывала Л<иля> Ю<рьевна> про эту их (со Шкловским. - В. Б.) старую ссору в середине 60-х, в самый разгар бешеной кампании, которую вели против неё в печати два сукиных сына - Колосков и Воронцов - конечно, с соизволения или даже по прямому указанию самого высокого начальства.
Кампания эта к тому времени продолжалась уже несколько лет. Вообще-то, началом её надо считать выход 65-го тома „Литературного наследства“ - „Новое о Маяковском“. Издание это было осуждено специальной комиссией ЦК. Особый гнев начальства вызвала опубликованная в томе переписка Маяковского с Лилей Юрьевной.
Вот с этого и началась длящаяся годами, то затихающая, то с новой силой вспыхивающая травля Л. Ю. в печати. Виктор Борисович в этой ситуации повёл себя не лучшим образом.
В 1962 году на дискуссии в клубе „Октября“ (не самый уважаемый в то время журнал) на тему „Традиции Маяковского и современная поэзия“ он произнёс речь, в которой тоже дал залп по этой осуждённой высокими инстанциями сугубо личной переписке. Сокрушался, что Маяковский представлен в ней мало что говорящими уму и сердцу читателя короткими записочками. Сказал даже, что, напечатанные с комментариями в академическом томе, записочки эти „изменили свой жанр и тем самым стали художественно неправдивыми“. А в заключение посетовал, что в томе не напечатано „большое письмо Маяковского о поэзии. Оно осветило бы записочки“.
Особенно возмутила Лилю Юрьевну в той его речи именно вот эта последняя фраза, поскольку это „большое письмо Маяковского о поэзии“ существовало исключительно в воображении Виктора Борисовича. На самом деле никакого такого письма не было, и он не мог этого не знать.
Вскоре после того как это выступление Шкловского появилось на страницах журнала, Лиля Юрьевна получила от него такое послание:
„…Факт есть факт. Письма не существует и не было. Мне жалко, что я ошибся и обидел тебя.
Новых друзей не будет. Нового горя, равного для нас тому, что мы видали, - не будет.
Прости меня.
Я стар. Пишу о Толстом и жалуюсь через него на вечную несправедливость всех людей.
Прости меня.
Виктор Шкловский.
Я не сомневаюсь, что это покаянное письмо было искренним.
Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы оно осталось последней точкой в долгой истории их отношений.
Не знаю, пересеклись ли потом ещё хоть раз их пути, встречались ли, обменивались ли письмами или хоть телефонными звонками. Но однажды мне случилось убедиться, что пламя той стародавней ссоры в его душе угасло не совсем.
Это был ноябрь 1966-го: четыре с половиной года, значит, прошло после того покаянного письма.
Мы с женой, как это часто бывало в то время, сидели у Шкловских и пили чай. Раздался звонок в дверь: принесли вечернюю почту.
Виктор Борисович кинул мне неразвёрнутый свежий номер „Известий“, чтобы я глянул, есть ли там что-нибудь интересное.
Никаких сенсаций мы не ждали, и я переворачивал газетные листы без особого интереса. На этот раз, однако, интересное нашлось. Это была реплика, изничтожающая опубликованную незадолго до того (в сентябрьском номере „Вопросов литературы“) статью Л. Ю. Брик „Предложение исследователям“ (так в журнале озаглавили отрывок из её воспоминаний, в котором она размышляла о Маяковском и Достоевском). К публикации этой я был слегка причастен (Л. Ю. советовалась со мной и Л. Лазаревым, какие главы её воспоминаний лучше подойдут для журнала) и поэтому злобную реплику, подписанную именами всё тех же двух мерзавцев, читал с особым интересом. Бегло проглядев про себя, прочёл её вслух. Ждал, что скажет Виктор Борисович. Хотя что тут, собственно, можно было сказать? Разве только найти какое-нибудь новое крепкое словцо для выражения общего нашего отношения к авторам гнусной статейки. Ведь кто бы там что ни говорил, а во всей мировой литературе не было другой женщины (кроме, может быть, Беатриче), имя которой так прочно, навеки срослось бы с именем великого поэта, ей одной посвятившего „стихов и страстей лавину“.
Но реакция Шкловского оказалась непредсказуемой:
Ну вот, теперь, значит, она хочет сказать, что жила не только с Маяковским, но и с Достоевским.
Отношения были, мягко говоря, непростые. В сущности, даже враждебные.
Но что бы ни происходило между ней и „Витей“, или между ней и „Борей“ <Пастернаком>, „Витя“, которого Володя <Маяковский> когда-то из-за неё выгнал из ЛЕФа, и „Боря“, который под конец жизни „совсем одичал“, были для неё навсегда свои. А Катаев, пьесы которого шли во МХАТе, сколько бы он ни тщился представить себя любимым учеником, другом и наследником Маяковского, как был, так и остался ей навсегда чужим» {168} .
Есть мемуары художницы Елизаветы Лавинской, входившей в ЛЕФ, о Маяковском. Зиновий Паперный про них писал:
«Во главе Дома-Музея <Маяковского> стояла Агния Семёновна Езерская, до этого заведовавшая каким-то артиллерийским музеем. В Музей Маяковского она перешла по распоряжению Надежды Константиновны Крупской, занимавшей руководящую должность в Наркомате просвещения. Так что Маяковским Агния Семёновна занималась не по призванию, а по указанию. Была у неё заместительница - серьёзно увлечённая творчеством поэта исследовательница Надежда Васильевна Реформатская. Обе были в то время, о котором я хочу сказать, седые, солидные. У Агнии Семёновны - лицо решительное, властное, не терпящее возражений, у Надежды Васильевны, наоборот, приятный, интеллигентный вид.
И вот Лиля Юрьевна узнаёт, что Агния Семёновна купила для музея рукопись воспоминаний, где весьма неприглядно рисуются Брики как пара, во всём чуждая Маяковскому. Если я не ошибаюсь, автор - художница Елизавета Лавинская, подруга сестры поэта Людмилы Владимировны.
Но тут Лиля Юрьевна, как бы случайно вспомнив, обращается к директрисе:
Агния Семёновна, хочу вас спросить: зачем вы покупаете явно лживые, клеветнические мемуары?
Я знаю, что вы имеете в виду. Но, уверяю вас, это находится в закрытом хранении, никто не читает.
Лиля Юрьевна заявляет, отчётливо произнося каждое слово:
Представьте себе на минуту, Агния Семёновна, что я купила воспоминания о вас, где утверждалось бы, что вы - проститутка, но я бы обещала это никому не показывать. Понравилось бы вам?
Вступает Надежда Васильевна:
Простите, Лиля Юрьевна, вы не совсем правы.
Ах, не права? Или вы, Надежда Васильевна, воображаете: в воспоминаниях говорилось бы, что вы…
И Лиля Брик произносит те же слова второй раз. Затем она приветливо прощается со всеми, и мы втроём - с ней и Катаняном, как было условлено, едем к ним домой».
Лиля Юрьевна, конечно, придирчиво относилась к себе в изображении современников. И действительно, Лавинская писала и о ней, и об Осипе Брике довольно резко: «А вся неразбериха, уродливость в вопросах быта, морали? Ревность - „буржуазный предрассудок“. „Жены, дружите с возлюбленными своих мужей“. „Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей“. Нормальная семья расценивалась как некая мещанская ограниченность. Всё это проводилось в жизнь Лилей Юрьевной и получало идеологическое подкрепление в теориях Осипа Максимовича» {169} .
О чрезвычайной осторожности, с которой нужно подходить к мемуарным свидетельствам о чужом блуде, я уже говорил.
Куда важнее, куда интереснее то, что Лавинская писала о самом ЛЕФе - однако надо учитывать, что это воспоминания солдата разбитой армии. Если Наполеон покинул Египет и бросил войска, можно представить, что напишет о нём разочаровавшийся офицер.
Не всякий брошенный солдат верен императору.
«И у меня так: из-за Лефа, из-за Брика вся жизнь на слом; каким огромным трудом далось даже переключение на графику. Ведь Лавинский, Родченко и остальные хоть в прошлом прошли какую-то школу, а наше поколение митинговало, отрицало и научилось в конце концов на практике одному оформительству. Но и в эти горькие минуты сознание того, что благодаря Лефу я знала, я так часто слышала, я была большой отрезок времени около Маяковского, как-то зачёркивает бесцельные угрызения: „могло быть иначе“. Да, безусловно, могло бы быть иначе, если в 1923–1924 годах я умела бы немного самостоятельно мыслить…
…В 1930 году, уже после смерти Маяковского, Асеев сказал нам - Антону и мне:
Вы, художники, были дураки, нужно было ломать чужое искусство, а не своё.
Помню, эта фраза потрясла меня своим цинизмом, но потом я поняла, что это была именно фраза: в тот период ничего подобного Асеев не думал и совершенно искренне сам громил живопись и скульптуру, воспевая фотомонтаж» {170} .
Разрушение было присуще авангарду. «Нужно непременно разрушать свою жизнь. Иначе она склеротизируется, и мы захлебнёмся в добродетели…» - писал Шкловский Тынянову, а тот отвечал 5 декабря 1928 года: «…Целую тебя крепко. Со статьей о Хлебникове не согласен. Но согласен с одним: нам жить друг с другом…»
Эта история, то есть история изгнания Шкловского из ЛЕФа, очень красиво рассказывалась многими её участниками и людьми, которым её рассказали участники. Сами участники тоже рассказывали о ней по-разному.
«<…> Леф распался, не выдержав ссоры моей с Лилей Брик, разделился на поэзию и прозу. Спешно ищем идеологических обоснований. Я хочу устроиться так, чтобы часто бывать в Питере. Посмотрим, что из этого выйдет. <…>
Больше всего нам нужно работать вместе, я чувствую каждый день преимущество коллективного хозяйства над однолошадным середняцким.
Очень крепко целую тебя. Завален мыслями о деньгах. Литературный быт надо рассматривать как один из видов сопротивления материала, тогда, вероятно, получится, а что получится, мне неизвестно. Я очень боюсь, как бы не получилось из „Комарова“ работы старого типа. Пиши мне» {171} .
Через два дня Чуковский записывает в дневник: «10/XI 1928. Подъезжаю к Питеру. Проехали Любань. Не спал 3 ночи. Вчера в Москве у М. Кольцова. Оба больны. У них грипп. Она лежит. Он сообщил мне новости: „Леф“ распался из-за Шкловского. На одном редакционном собрании Лиля критиковала то, что говорил Шкл. Шкл. тогда сказал: „Я не могу говорить, если хозяйка дома вмешивается в наши редакционные беседы“. Лиле показалось, что он сказал „домашняя хозяйка“. Обиделась. С этого и началось».
Бенедикт Сарнов, в свою очередь, пишет:
«Однажды Л<иля> Ю<рьевна> рассказала нам о своей давней ссоре с Виктором Борисовичем Шкловским.
Не помню, то ли это было какое-то заседание редколлегии „Нового ЛЕФа“, то ли просто собрались друзья и единомышленники. Происходило это в Гендриковом, на квартире Маяковского и Бриков. Шкловский читал какой-то свой новый сценарий. Прочитал. Все стали высказываться. Какое-то замечание высказала и она.
И тут, - рассказывала Лиля Юрьевна, - Витя вдруг ужасно покраснел и выкрикнул: „Хозяйка должна разливать чай!“
И что же вы? - спросил я.
Я заплакала, - сказала она. - И тогда Володя выгнал Витю из дома. И из ЛЕФа» {172} .
Василий Абгарович Катанян рассказал о конфликте В. Б. Шкловского с лефовцами на одном из «вторников» в Гендриковом переулке: «Говорили о каком-то игровом фильме, Жемчужный и Осип Максимович <Брик> довольно резко критиковали его. И вдруг выяснилось, что Шкловский принимал участие в сценарии этой картины. <…> Он стал грубо огрызаться. Тихий и скромный Виталий <Жемчужный> удивился и промолчал. Тогда Лиля Юрьевна предложила вместо сценария Шкловского обсудить любой другой плохой игровой сценарий. Шкловский неожиданно подскочил, как ужаленный, и закричал: „Пусть хозяйка занимается своим делом - разливает чай, а не рассуждает об искусстве!“» {173} .
Лавинская рассказывает это по-другому:
«Итак, Леф перешёл к новому этапу. Председательствовала Лиля Юрьевна Брик. Осип Максимович бросал по этому поводу, как всегда, несколько иронические, но в то же время игриво-поощрительные замечания - одним словом, всем было понятно: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! Маяковский молчал, и по его виду трудно было определить его отношение к этому новшеству. Возможно, всё обошлось бы без всяких инцидентов, вплоть до самоликвидации Лефа, если бы не скандал с Пастернаком и Шкловским. Как будто всё дело состояло в том, что Пастернак отдал в другой журнал своё стихотворение, которое должно было быть, по предусмотренному плану редакции, напечатано в „Лефе“ (издававшийся ЛЕФом одноимённый журнал. - В. Б.). Начал его отчитывать Брик. Пастернак имел весьма жалкий вид, страшно волнуясь, оправдывался совершенно по-детски, неубедительно, и, казалось, вот-вот расплачется.
Маяковский мягко, с теплотой, которую должны помнить его товарищи и которую не представляют себе люди, видевшие его только на боевых выступлениях, просил Пастернака не нервничать, успокоиться: „Ну, нехорошо получилось, ну, не подумал, у каждого ошибки бывают…“ И т. д. и т. д.
Замолчи! Знай своё место. Помни, что здесь ты только домашняя хозяйка!
Немедленно последовал вопль Лили:
Володя! Выведи Шкловского!
Что сделалось с Маяковским! Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки, вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал. Шкловский встал и уже тихим голосом произнёс:
Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду и больше никогда сюда не приду.
Шкловский ушёл, а Маяковский всё так же молчал. Лиля Юрьевна продолжала ругаться. Брик её успокаивал. Мы все стали расходиться. Было чувство боли, обиды за Маяковского и стыд за то, что Леф, которым жили, в который безумно и слепо верили, из-за которого сломали жизни, бросая искусство, Леф выродился в светский „салончик“» {174} .
Всякий, кто ворошит чужие знаменитые ссоры, «ходит опасно».
Недаром эти разговоры обозначены вешками «морали» и «нравственности».
Понятия морали и нравственности - самые зыбкие. Сами эти слова - будто двухголовая птица с неразличимой сутью, недаром классики философии употребляли их как синонимы, а теперь в них вдут какой-то абстрактный «духовный» смысл.
Никто точно не знает этой сути, всё, как и положено в «морально-нравственных» делах, определяется интуитивно.
В начале XX века начались эксперименты с этикой.
О Лиле Брик часто говорят, употребляя слово «великая». Мера величия неизвестна. Возможно, это обычный человек, на котором, в силу образа жизни, сконцентрировались желания нескольких неординарных людей. Затем покатился известный снежный ком общественного интереса - уже без особых усилий.
Обычный человек, никакая не хранительница, если муза - то невольная, не гений, не злодей. Не арбитр вкуса, ясное дело.
Просто человек, соответствовавший своими чертами и привычками ситуации. Мне кажется, что в ней не было ничего сверхъестественного. Она оказалась в нужное время, в нужном месте - в компании одарённых людей - и с нужными навыками общения. Я наблюдал такой феномен в разных компаниях - кто-то авторитетный из группы людей неосознанно выбирает себе предмет обожания, начинается цепная реакция, и коллективный символ сексуальности создан.
Кстати, самыми притягательными становятся вовсе не мудрые красавицы, а просто женщины с практическим умом.
Причём наблюдал я это отвердение репутаций, похожее на кристаллизацию воды, в совершенно разных компаниях - и среди интеллектуалов, и среди слесарей («Ну как? Нинка из тринадцатой комнаты даян эбан?» - спрашивает один другого. А тот отвечает с самодовольною усмешкою: «Куда ж она, падла, денется?» - как писал Веня Ерофеев о нелитературных людях).
К слову, потом, спустя много лет, мужчины не могут забыть таких женщин, потому что они не просто символ сексуальности, они - символ и мужской молодости, силы, молодого счастья и надежд.
Жизнь причудлива.
В январе 1930 года Лиля Брик пишет в воспоминаниях: «Когда я просыпаюсь - ночь прошла, уже светает, тихо, часть гостей, должно быть, разъехалась. Выйдя из Осиной комнаты, я вдруг сталкиваюсь с Пастернаком, который выскакивает из столовой с отчаянным, растерянным лицом. Его не было среди приглашённых, очевидно, он приехал под утро, когда я спала. Он смотрит на меня невидящими глазами и выбегает без шапки, в распахнутой шубе в раскрытую дверь передней. За ним устремляется Шкловский, которого тоже не было в начале вечера и который, как выяснилось, приехал вместе с Пастернаком. В столовой странная тишина, все молчат. Володя стоит в воинственной позе, наклонившись вперёд, засунув руки в карманы, с закушенным окурком. Я понимаю, что произошла ссора».
Потом произошли известные трагические события.
В одном письме без даты, вероятно, во второй половине апреля 1930 года, Шкловский пишет Тынянову:
«Владимир Владимирович кроме того письма, которое ты знаешь, оставил ещё два - одно <Веронике> Полонской, другое сестре. Их я не знаю.
В последнее время он был в очень тяжёлом настроении. Ушёл с одного вечера, не дочитавши своих последних стихов. Ушёл с диспута о „Бане“, где журналистская аудитория хамила и мучила его.
В ночь перед смертью он до 2-х часов был у Катаева. Потом поехал на Таганку. Утром заехал к Полонской. Эта женщина маленькая кинематографистка, замужняя, снималась в „Стеклянном глазе“, в пародийной части картины.
В прошлом году у Владимира Владимировича был другой роман и тоже несчастливый.
Эта женщина не хотела ехать с Владимиром Владимировичем, он плакал. Они поехали вместе на его квартиру. В 10.15 он застрелился в дверях своей комнаты. В револьвере была одна пуля. Женщина растерялась. Вызвала соседку. И уехала.
Её арестовали. На репетиции. К вечеру она была выпущена.
Стихи в письме. Странные, как ты видишь. Они ещё тяжелее цыганских романсов Блока. Стихи из большой поэмы, обращённой к Лиле Брик.
Я думаю, что Полонская - это ложный адрес огромной неудачной любви, которую нельзя было простить себе.
Володя изолировался от своих. Он был искренне предан революции. Нёс сердце в руках, как живую птицу. Защищал её локтями. Его толкали. И он чрезвычайно устал.
Личной жизни не было. Поэт живёт на развёртывании, а не на забвении своего горя. Он страшно беззащитен. Маяковский прожил свою жизнь без читательского окружения, и все его толкали, а у него были заняты руки, и он писал о том, что умрёт. Слова были рифмованы. Рифмам не верят. Его толкали.
Он умер чрезвычайно усталым. Осталась стопка тетрадей ненапечатанных стихов. Они написаны все в последнее время.
Лежит Владимир Владимирович в клубе писателей. Идёт много народа, десятки тысяч. Мы не знаем, читали ли они его» {175} .
Сейчас об этом самоубийстве написаны сотни (наверное, даже тысячи) книг, мы знаем множество других подробностей, чего ещё не знал Шкловский.
На книжных полках мемуаристы стоят рядком, как на очных ставках.
Но удивительное свойство человеческих историй в том, что в какой-то момент они становятся непознаваемыми. В определённых обстоятельствах судьба превращается в притчу, и можно бесконечно спорить, но никакого единого мнения выработать нельзя.
Ничего нельзя доказать - и живые люди превращаются в символы, а их жизни - в притчи.
Сгубили ли Маяковского Брики или без них он не состоялся бы? Советская власть задушила поэта или он сам шёл навстречу гибели? Был ли он раним и нежен или невротичен и жесток? Это всё выяснить невозможно.
Сформулировать связное и отчасти убедительное высказывание не значит «выяснить до конца, как это было на самом деле».
Это значит - создать более или менее противоречивое толкование.
Как было «до конца на самом деле с Пушкиным», что там с Лениным?.. Ничего не понятно.
Что было на самом деле с фарисеем и мытарем? Что думает человек, умывающий руки накануне чужого приговора? Что записал сборщик податей Левий Матвей за Иешуа?
Кстати, Булгаков пришёл на похороны Маяковского.
Есть его страшная фотография - в жаркий апрельский день он, весь в чёрном, стоит во дворе Клуба писателей.
История этого снимка долго оставалась детективной - потом оказалось, что снимок, как и несколько других, сделал Илья Ильф.
Для Булгакова, думаю, это был акт примирения с человеком, который в своей пьесе перечислил его среди отживших понятий.
В «Клопе» говорят со сцены: «Сплошной словарь умерших слов… бублики, богема, Булгаков…»
Но Маяковский этим апрельским днём был окончательно мёртв и находился среди совсем иных слов.
Впрочем, человеку, имевшему отношение к литературе и бывшему в то время в Москве, не прийти на эти похороны было невозможно. Гуковский (в пересказе Лидии Гинзбург) говорил: «Если человек нашего поколения… не бродил в своё время в течение недели, взасос твердя строки из „Облака в штанах“, с ним не стоит говорить о литературе».
Групповые снимки давних времён, сделанные на печальных и радостных мероприятиях, имеют одно важное свойство.
Они напоминают финал одного рассказа Даниила Хармса.
Рассказ этот называется «Связь» и заканчивается вот чем: «После концерта они поехали домой в одном трамвае. Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке. И вот они едут поздно вечером по городу: впереди - скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый, бывший кондуктор. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают до самой смерти».
Люди, которых снимал Ильф, были связаны крепко, они знали, что их связывает.
А связывало их главное искусство того времени - литература.
Вот следующий снимок из книги «Ильф - фотограф» с такой подписью: «В день похорон Владимира Маяковского 17 апреля 1930. Слева направо: М. Файнзильберг, Е. Петров, В. Катаев, С. Суок-Нарбут, Ю. Олеша, И. Уткин».
Ильф умрёт через семь лет, а его брат Михаил Файнзильберг - через двенадцать. В том же 1942 году погибнет Петров, Катаев проживёт ещё 56 лет и умрёт Героем Социалистического Труда и многих орденов кавалером, а Олеша уйдёт через тридцать - в нищете, временно заслонённый другими именами.
Женщина, сидящая между ними, - Серафима Суок, бывшая женой поэта Владимира Нарбута.
Через четверть века она станет женой Шкловского.
Сам Шкловский ходит тут же, но не догадывается о том, как сложится его семейная жизнь.
Все они понятия не имеют о своих сроках, но чувствуют одно - смерть Маяковского отделяет время прежней литературы от новых времён.
Следующие похороны Маяковского состоялись в 1980-е и в 1990-е годы. Происходили они в газетах и на телевидении - потому что основной массе соотечественников стихи поэта стали менее важны, нежели его интимная жизнь.
Именно благодаря Брикам мы сейчас имеем тот образ Маяковского, который имеем.
Это был тот самый необитаемый остров с мотором, сам подплывший к Куку: открывай, мол, меня! про который рассказывал Шкловский, имея тогда совсем иные обстоятельства - открытие Есенина.
История повторилась, когда письмо Лили Брик легло на стол вождя. Это был именно такой остров, приплывший к Сталину.
Вот он я, говорил этот остров, только скажи, что я - самый лучший и современнейший остров эпохи. Он был очень удобен тем, что уже не мог наделать глупостей.
Многие люди повторяют как заклинание мысль о том, что без письма Брик мы бы не знали Маяковского так, как знаем сейчас.
Однако понятно, что поэт Маяковский был бы всё равно, а вот станции метро «Маяковская» с её немыслимой красотой мозаики и гнутой нержавеющей стали, наверное, не было бы.
Мифология тоже сложна, и никогда не идёт по поведённому пути.
Из книги Лихачев автора Леонтьева Тамара КонстантиновнаГлава двадцать первая Вопрос о реконструкции завода АМО слушался на Политбюро через две недели - 25 января 1930 года.Лихачев впервые присутствовал на заседании Политбюро.После смерти Ленина дверь в кабинет, где Ленин работал с 12 марта 1918 года по 12 декабря 1922 года, была
Из книги Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. Том 1 автора Видок Эжен-ФрансуаГлава двадцать первая Мне предлагают бежать. - Новая попытка перед г-ном Анри. - Моя сделка с полицией. - Коко-Лакур. - Шайка воров. - Инспектор под замком. - Неудавшееся бегство.Я начинал чувствовать отвращение к побегам и к той свободе, которую они доставляли; мне
Из книги Две дороги автора Ардаматский Василий ИвановичГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ В этот день Дружиловский решил не работать и провести его в свое удовольствие. Утром он вышел из дома на Пассауэрштрассе и направился к площади Виттенберга. Программа продумана на весь день и вечер. Сейчас он купит газет и потом будет не торопясь
Из книги Десять десятилетий автора Ефимов Борис ЕфимовичГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Прокурор брал со стола листы и читал свою обвинительную речь. В это время его правая рука жила точно сама по себе и делала резкие жесты невпопад. После нескольких фраз он отрывался от текста и негодующе смотрел в зал словно ослепшими от чтения
Из книги Александр Иванов автора Анисов Лев МихайловичГлава двадцать первая Сорок пятый стал для меня годом незабываемых поездок - сначала в освобожденные страны Европы - Австрию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и Болгарию, а вскоре после них - в Германию на Нюрнбергский процесс гитлеровских главарей.Моим спутником в
Из книги Что глаза мои видели. Том 2. Революция и Россия автораГлава двадцать первая Вторично свою картину А. Иванов выставил в феврале 1858 года для великой княжны Елены Павловны, принявшей в нем деятельное участие. Она сама приехала в его мастерскую, почти насильно заставила показать свою картину, тут же заказала снять с нее
Из книги Что глаза мои видели. Том 1. В детстве автора Карабчевский Николай ПлатоновичГлава двадцать первая Текущие занятия общего собрания были в полном разгаре, когда я, восседая за возвышенным столом нашего президиума, рядом с всегдашним почетным председателем наших собраний, престарелым Д. В. Стасовым, который мирно задремывал от времени до времени,
Из книги Царица парижских кабаре автора Лопато Людмила Из книги Виктор Шкловский автора Березин Владимир СергеевичГлава двадцать первая «Все это слегка напоминало свадьбу…» Наш второй спектакль. Ирина Строцци – «пани Ирэна» Пока мы репетировали, газеты сообщали о наших планах. В апреле 1957 года Le Matin Dimanche писала: «Новая театральная труппа русских (белых) только что основана в Париже
Из книги В крымском подполье автора Козлов Иван АндреевичГлава двадцать первая ЛЕФ …Другие поэтические соратники Маяковского (Асеев, Кирсанов) не сумели столь решительно и последовательно разорвать пуповину, всё ещё связывающую их со Шкловским и др. Несмотря на всю близость этих поэтов к революционному пролетариату, в их
Из книги Эйзенхауэр. Солдат и Президент автораГлава двадцать первая Об арестах подпольщиков я тут же сообщил по рации в обком партии, а 11 марта послал «Мартыну» подробную информацию о положении в городе. Из леса мы снова получили листовки на русском, немецком и румынском языках и газеты. Роздали их оставшимся
Из книги Так было автора Лагунов Константин ЯковлевичГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Из книги автораГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 1.И снова пришел март - первый весенний месяц. Он принес победные вести с фронтов великой войны. Красная Армия наступала. На юге, и на севере, и на западе. Неудержимо и стремительно. Город за городом, район за районом очищались от врага Южная Украина,
Основными чертами периода 1920-х годов были воздействие событий революции и гражданской войны на литературное творчество, борьба с классическими тенденциями, приход в литературу новых авторов, формирование эмигрантской литературы. После революции 1917 года по всей стране появилось множество различных литературных групп. Многие из них возникали и исчезали, даже не успевая оставить после себя какой-либо заметный след. Только в одной Москве в 1920 г. существовало более 30 литературных групп и объединений.1920е года в русской литературе характеризуются как полилог. В это время много эстетических традиций: авангард и частично постмодернизм (ОБЭРИУ), модернизм: орнаментальная проза Пильняка - импрессионизм, Олеша «Зависть»-экспрессионизм. Возникает параллельно и соцреализм (Фадеев «Разгром»), но идет живая конкуренция. Все это закончится в 1932-постановление о сокращении группировок, 1934- первый съезд союза писателей, и с этого же года соцреализм будет объявлен единственной эстетической традицией.
1. Пролеткульт (пролетарская культура). Теоретик: А.А. Богданов и Воронский (сам сюда не входил, но все члены опирались на его труды). Также входили: Александровский, Герасимов, Казин (потом в Кузницу перешел), Лебедев- Полянский, Кириллов, Обрадович, Полетаев, Калинин. Вообще сюда входило 80 тысяч челнов и 400 тысяч активистов. Хотели быть независимыми от советской власти, хотели сделать свою организацию мировой (но не вышло). Писатели, вышедшие из этой группировки, организовали «Кузницу» (Москва) и «Космиста» (Петроград). Существовала: 1917-1932. Их установки: классовый характер любого искусства (то есть каждый класс должен творить свое искусство, абсолютно не понятное другим классам), поэтому «Мать» неправдоподобна. Пролетариат должен преобразовать этот мир полностью (отсюда развиваются идеи изменения космоса: Толстой «Аэлита»). Стиль – восприятие ритмов завода. Считали, что писатель не должен учиться, он должен только творить. Надо освободиться от влияния прошлого. Отрицательное отношение ко всем непролетарским писателем. Отрицали идеологическое начало. Идея и тема – это классовая духовная наследственность, а не творчество. Журналы: Пролетарская культура, Грядущее, Горн, Гудки (всего около 20). Луначарский одобрял их, Троцкий отрицал, а Ленин резко критиковал (книга Материализм и импириомализм). Прежде всего, Ленин ругал их за самостоятельность. Кроме того, по Ленину: должны быть не особенные идеи, а марксистские. Должна быть не новая культура, а выбор из старого с тч зр рабочих.
2. Серапионовы братья (существовала в Петрограде в 1921- 1932 годы, самая независимая и наименее помешанная на теоризировании литературы группа). Они являлись опоозиционерами Пролеткульта, ЛЕФА и Конструктивизма. Их покровители: Горький, Замятин. Огромную роль сыграл в истории группы В. Шкловский. Его статья «Серапионовы братья» («Книжный угол», 1921) оказалась первым упоминанием о «серапионах». Сюда входили: Шкловский, Лунц, Зощенко, Никитин, Федин, Тихонов, Слонимский, Полонская, Вс. Иванов, Груздев (единств критик). Журналы: альманахи «Ковш», «Издательство писателей», «Серапионовы братья». Не имели манифестов, программы, лидеров, собирались без уставов. СБ спорили не столько с другими, сколько между собой. Часть братьев придерживалась тезиса аполитичности, а часть пыталась осознать подлинное значение процессов советской действительности. Отсюда разница стилей: объективистский показ действительности (Каверин, Зощенко), увлеченность пафосом партизанской борьбы против белых (Вс. Иванов), ориентация на западную прозу (Лунц), бытовые рассказы с элементами фольклора (Зощенко, Вс. Иванов). В итоге раскололись на «западное крыло» (Лунц, Каверин, Слонимский) и «восточное крыло» (Зощенко, Вс. Иванов). Первые были за остросюжетную «западную новеллу», вторые – за бытовой рассказ и фольклорный материал. В итоге часть «братьев» эмигрировала, часть встала на сторону советской власти. Основные идеи: На Запад! Русская литература болеет анемией, она залежалась на обломовском диване и засиделась в тургеневских девушках, теперь ей нужно влиться, это даст ей новой крови (идея Лунца). Произведение существует само по себе, искусство должно жить своей жизнью.
3. Кузница и Октябрь. Герасимов, Кириллов и др. создают «Кузницу» в 1920. Сначала это была группа пролетарских писателей, которые в 1920, выйдя из моск Пролеткульта, образовали при Литотделе (ЛИТО) Наркомпроса подотдел пролетарской лит-ры и стали выпускать журнал «Кузница»: В. Александровский, С. Обрадович, Василий Казин, Николай Полетаев, Семен Родов, Волков, Герасимов, Санников, Гладков. К ним примкнули Владимир Кириллов (из петроградского Пролеткульта), Ляшко, Филиппченко. Журналы: «Кузница», «Журнал для всех», «Рабочий журнал», «Пролетарский авангард». Установки: Группа с самого начала противопоставила себя дореволюционным литературным направлениям - символизму, футуризму, имажинизму. Против того, чтобы поэзию хоть чем-то ограничивали, сжимали – «буржуазным» содержанием и формальными рамками стиха. Все это мешает выразить пролетарский дух. Художник-пролетарий – медиум своего класса. В его стихах – идеализация пролетариата, труда, металла, машин. При этом не признавали руководство культурой со стороны партии, отвергали НЭП, как измену принципам мировой революции. В 1924 создала своеобразный блок с «Перевалом» Воронского, направленный против РАПП, уже начинавшей гегемонию в литературе. Но в 1928, накануне разгрома «Перевала», большинство участников «Кузницы» вступило в РАПП. После НЭПа часть «К» остаётся вне политики партии, а часть, собравшись в редакции новоиспеченного журнала «Молодая гвардия» (ориентация на молодежь, агрессивные статьи), организует сверхпролетарскую группу Октябрь . Это самые непримиримые большевики. Руководители-критики: Лелевич, Вардин, Родов. Писатели: Безыменский, Либединский, Жаров, Артем Веселый. Позже примкнул Дмитрий Фурманов. Журналы: «На посту» и «Октябрь». Уже в начале 1923 года публикуется манифест новой группы, в основу которого лёг доклад критика Семёна Родова. Задачи «Октября» (существовал с 1922 - 1932): Построение классовой культуры. Художественная литература должна служить задачам определённого класса. В данном случае пролетариату. Поэтому пролетарская литература должна организовать психику и сознание рабочего класса, а он в свою очередь должен переустроить мир. Хотя «Октябрь» и называл себя «пролетарской» организацией, его члены на 80 % были выходцами из дореволюционной интеллигенции. «Октябрь» так же, как «Кузница» отвергал формальные эксперименты. В основе творчества лежат не художественные идеи, а революционно-марксистские. Творческим материалом является современная действительность. В 1920 существует ВАПП – всероссийская ассоциация пролетарских писателей. Их точка зрения совпадает с Октябрем. ВАППовцы мечтают о создании изолированной пролетарской культуры. В итоге все эти три группы сольются в РАПП.
4. РАПП (российская ассоциация пролетарских писателей). Во главе этой группы стоит Леопольд Авербах (но у истоков стоит Кузница и Октябрь: Лелевич, Родов и Вардин -критики). Также входили: Фадеев, Либединский, Киршон, Чумадрин, Афиногенов, Безыменский. Существовала: 1925-1932. РАПП – генетически от пролеткульта, но на деле противопоставляли себя им. Полностью отрицали другие группировки и боролись с ними. Претендуют на статус блюстителей партийных интересов в области литературы. Главным качеством, по мнению пролет. писателей, является преданность партии. Основной журнал: «На литературном посту». Основные идеи: Только пролетарские писатели способны дать правильное марксистское освещение жизни, в то время как литература буржуазии дает враждебное современности изображение ее, поэтому такая литература-враг. Литературу Напостовцы делят на два «фронта»: реакционный и революционный. Нейтральной позиции не существует, такой писатель враг. Творчество – не пассивное созерцание, а форма участия в классовой борьбе своего времени. Ведущая идея мировоззрения: лишь целостное пролетарское мировоззрение обеспечивает писателю возможность дать действенные, созвучные эпохе произведения. Лозунг «живого человека»: «…изображать надо только живого человека, это избавит от штампов и справедливо сориентирует пролетарскую литературу на отражение современности». Но живой человек– 100%-ая коммунистическая идеология. РАППовцы призывали к Одемьяниванию поэзии. Т.е. поэты должны брать уроки мастерства у пролетарского поэта Демьяна Бедного. Врагов РАППовцы топтали, а своих писателей возвеличивали вне зависимости от качества их творений (а качество было не очень). Постоянно идут нападки на Воронского, на Попутчиков, на Серапионов, на Ахматову, на Пильняка, на Эренбурга, т.е. на всю непролетарскую литературу. За счёт этого агрессивного стиля журнал зарабатывает себе большую читательскую аудиторию, но в итоге все РАППовцы расстреляны или посажены (тк стиль полит обвинений опасен). Пролеткультовцы боролись за автономию от государства, за что были разгромлены. Рапповцы учли это и провозгласили главным принципом следование партийной линии, внедрение ее в лит-ру.
5. Перевал . Существовала 1923- 1932. Организована под руководством А. Воронского при журнале «Красная новь». Название, вероятно, связано со статьей Воронского «На перевале», опубликованной в журнале «Красная новь» (1923). Первоначально группа объединяла молодых писателей из литературных групп «Октябрь» и «Молодая гвардия». «МГ» - объединение молодых писателей, организованное в октябре 1922 года и состоявшее в основном из комсомольцев. В группу входили Александр Безыменский, Александр Жаров, Михаил Светлов, Михаил Голодный, Иван Доронин, Валерия Герасимова, Николай Богданов. «МГ» составляла непримиримую оппозицию группе «Кузница» и «попутчикам». Идейно и организационно очень близка группе «Октябрь». В «Перевал» вошли писатели: прозаики - А. Малышкин, И. Катаев, В. Губер, Н. Зарудин, М. Барсуков, Л. Завадовский, Н. Смирнов, М. Пришвин, Н. Огнев, А. Веселый, Ширяев, А. Платонов, И. Евдокимов, Р. Акульшин, А. Перегудов, М. Вихрев, В. Ряховский, П. Павленко, А. Новиков, П. Слетов и другие; поэты - Д. Семеновский, Н. Тарусский, Н. Дружинин, П. Наседкин, Б. Ковылев, Н. Дементьев, Е. Эркин и др.; критики - А. Лежнев, Д. Горбов. На почве идейного расхождения с группой рано вышли из «Перевала» М. Светлов, А. Караваева, Н. Огнев, А. Веселый. Журналы: «Красная новь», «Новый мир», в сборниках «Перевал», «Ровесник», антология «Перевальцы». Критикуют футуристов и коструктивистов за чрезмерную рациональность. Основные идеи: «Перевал» задачей творчества ставил «раскрытие внутреннего мира». Они ввели понятие «мир Галатеи» - мир искусства, существующий наравне с реальным. Все предметы, которые художник втягивает в этот мир Галатеи, предстают в некой идеальной эстетической системе. РАПП обвинил их в идеализме и объявил врагом за это. 1927 г. по инициативе Воронского был создан еще один орган для консолидации писателей – Федерация объединений советских писателей (ФОСП) – установки те же. Художественное творчество перевальцы толковали как некий сверхразумный, интуитивный процесс. Художник представлялся исключительной личностью, не связанной с практикой своего класса. Перевальцы выдвинули следующие творческие лозунги: «искренности творчества» (даже если это противоречит партийной дисциплине); «моцартианства», под которым подразумевалось творчество по вдохновению, наконец лозунг «нового гуманизма», провозглашавший любовь к человеку вообще. «Перевал» признавал роль «социального заказа», выступая, однако, за право писателя на «выбор темы по своему усмотрению» (они вообще часто уступали своим оппонентам РАППовцам, а те бесились этому интеллигентскому тону). Их метод – динамический реализм. В итоге РАПП и Перевал образовали два полюса: классовый подход, насилие над писателями ради классовости и искусство как цель жизни художника.
6. ЛЕФ (левый фронт искусства). Существовал 1923- 1928 в Москве. Основной теоретик: Осип Брик. Главная теория: теория социального заказа. Художник – ремесленник и может выполнить любой заказ. Сюда входили приверженцы футуризма: Маяковский (возглавлял ЛЕФ), Асеев, Арватов, Каменский, Кирсанов, Брик, Крученых, Пастернак (сначала, но порвал с ним в 1927), С.Третьяков, П.Незнакмов, Б.Арватов, Н.Чужак (Насимович), В.Перцов, художники – конструктивисты А.Родченко, В.Степанова, А.Лавинский и др. Близок к Лефу был В.Шкловский, тогда теоретик ОПОЯЗа. Журналы: «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», сборник теоретических и критических статей «Литература факта». ЛЕФовцы очень любили теоретизировать, но не перегружали себя знакомством с подлинно научными теориями (ведь все они были объявлены «буржуазными»). «Работники» «левого фронта» (как и Пролеткульт) считали, что можно заставить искусство отказаться от исторически сложившихся жанров теми же методами, которыми заставили капиталистов отказаться от частной собственности. Основные идеи: Приспособленческая установка! Принцип литературы факта (отбор материала для творчества – не вымысел, а факт как предмет искусства); принцип «искусства-жизнестроения» (задача искусства – напрямую вторгаться в жизнь, приближая будущее). ЛЕФ считал себя единственным настоящим представителем революционного искусства. Пророчествовали смерть романа и расцвет кратких малых жанров. Главная задача искусства: создание отчетливо функционирующего человека (человек-работник, никаких других желаний, кроме работы унего нет и быть н едолжно). Отрицали вдохновение, верили в прогресс и техноллоогию. Ответвление ЛЕФа – Форсоц (формалисты-социологи) – ответвление литературоведения. Главный теоретик форсоца – Б. Арватов. Он рассматривает литературу как «профессиональную практическую общественную систему литературного труда, обладающую своей техникой, экономикой и своими надстройками. Есть еще РЕФ (революционный фронт, тот же ЛЕФ тока имя другое) – (создал Маяковский в 1929 году)- попытка М оживить литер жизнь, в этот период абсолютная победа РАПП, и в 1930 Маяк вступил в РАПП.
7. Имажинизм. Возникла в 1919 (и сущ до 1925) на основе футуризма (в общем -то). В журнале «Сирена» под редакцией бывшего имажиниста В. Нарбута появилась декларация имажинистов, направленная против футуризма: «скончался младенец десяти лет от роду (1909-1919), и сдох футуризм». Журналы: сборники «Имажинисты», «Конница бурь», альманах «Язь», журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Члены: Есенин, Ивнев, Мариенгоф, Шершеневич, Эрдман, Якулов. Свое искусство имажинисты называли «головным» («мы не можем доверить капризному мальчишке-чувству свое творчество»). То есть они были рационалистами, как впоследствии лефовцы, выросшие из футуризма, или рапповцы, или конструктивисты. Разрушать старое имажинисты не обещали (на это есть гробокопатели, шакалы футуризма). Футуризм был объявлен академичным, слишком содержательным и далеким от реализма. Основные идеи: Цель творчества – создание образа, который создается при помощи метафор, метафорических цепей. Текст, имеющий связное содержание, не может быть отнесён к области поэзии, так как выполняет скорее идеологическую функцию. Искусство всегда условно. Делились на 2 крыла: левое составляли сторонники полной самоценности образа –Шершеневич, Мариенгоф, Эрдман. Правое: Есенин, Кусиков, Ивнев. Главный их тезис: очищение формы от содержания, не принимают ценность содержания (как и футуристы).Они очень любили эпатажные высказывания. В 1921 году Луначарский назвал группу имажинистов «бандой». В ответ Есенин, Мариенгоф и Шершеневич вызвали его публичную дискуссию и требовали выслать их из Советской России. Нарком ответил, что высылать он их не имеет ни права, ни желания. Есенин во многом расходился с собратьями, потому что они отрицали в искусстве национальное начало. Признавался быт как отправная точка для искусства, как земля для аэроплана. В 1924 году Есенин написал письмо в «Правду», где сказал о роспуске имажинизма. Итог подвел Шершеневич в статье «Существуют ли имажинисты?»: «Имажинисты отняли у поэзии личность. А поэзия без личности, без лиризма, как беговая лошадь без ноги».
8. Конструктивизм (литературный центр конструктивистов ЛЦК). Главный теоретик: Зелинский. Близки футуризму (Маяковский даже считал их ответвлением от ЛЕФа). Конструктивистская группа была основана весной 1922 года (Зелинский, Сельвинский, Луговой, Багрицкий, Инбер, Агапов, Габрилович) и просуществовал до 1930 (его сгубил РАПП, навалился и уничтожил: за то что конструктивисты- почти все интеллигенты, и за то что они преклонялись перед тех.достижениями Америки). Журналы: «Красное студенчество», сборники «Мена всех», «Госплан литературы»,«Бизнес». Содержательные основы конструктивизма в своей первой декларации, опубликованной в 1923 г. под названием «Знаем!» определяют как коммунистические: «Конструктивизм, школа, стоящая на твердом научном машинном фундаменте, по существу своему коммунистична. Организацией конструкций он воспитывает солидарность товарищескую и братскую спайку». Конструктивисты делали установку на современный техницизм, прежде всего, на производительные силы. Характерные черты: любовь к цифрам, деловой речи, цитатам из документов, деловому факту. Конструктивисты заявляют, что они признают все– именно потому, что в машине винт винту помогает. Они используют всякий новый возможный прием без формального канона. Есть общее и с пролеткультовскими теориями, и с ЛЕФом. Прежде всего, конструктивизм (в других выражениях) пропагандировал ту же теорию искусства-жизнестроения. Зелинский акцентировал связь с мировой культурой. Стиль эпохи – стиль техники, вершина его – Америка. В конце 20-х годов конструктивисты стали фактически главными литературными противниками Маяковского. Зелинский: «Футуризм сделал свое дело, он был могильщиком буржуазной декадентщины, в своем новой обличии ЛЕФа футуризм продолжает свое старое дело. Но новое дело, новая социалистическая культура будут твориться не его руками. Эта новая культура создает свой новый стиль и методы, и это есть методы конструктивизма».
9. ОБЭРИУ – объединение реального искусства (конечная У-потому что все кончается на У), существовало в 1926-1930 в Ленинграде. Члены: Хармс (которого печатали только в детских журналах), Введенский, Заболоцкий, Бехтерев, Разумовский, некоторое время Вагинов и Левин, близки были Шварц и Олейников. Журналы: единого так и не было. Основные идеи: Обновление искусства за счет отказа от реализма, ратовали за отказ от традиционных форм искусства, необходимость обновления методов изображения действительности, культивировали гротеск, алогизм. Обожали нереальность и абсурд. Они против заумного языка в искусстве. За отмену логики и общепринятого времяисчисления в поэтических произведениях. Все действие калейдоскопично, раздроблено вплоть до отдельных реплик в диалогах. Истинная реальность для них – искусство. ОБЭРИУты вообще работали на стыке детской и взрослой литературы, главные участники этой группы входили в редколлегию Ежа – детского журнала. Главный их метод: перенести во взрослую литературу детских представлений, кукольных отношений. ОБЕРИУты стаои предтечей постмодернизма. ОБЭРИУтов обвинили в протесте против диктатуры пролетариата и всех участников пересажали.
Это не группы, но, на всякий пожарный, были еще течения в 1920х годах:
Новокрестьянская поэзия
Состав: Клюев, Есенин, Клычков, Ширяевцев, Орешин
Даты: Первая волна крестьянской поэзии – 1903-1905 гг. (Дрожжин, Леонов, Шкулев) Они объединились внутри суриковского литературно-музыкального кружка, издавали сборники, сотрудничали с пролетарскими поэтами. Вторая волна – 1910-е гг.
Печать: сборники стихов (напр. «Радуница» Есенина, «Сосен перезвон», «Братские песни» Клюева)
Суть: Это течение поэтов, вышедших из народной среды. Они опирались на фольклорную традицию и литературную традицию XIX века (Некрасов, Кольцов, Никитин, Суриков). Основные мотивы – жизнь деревни, природы, родство жизни деревни с жизнью природы. Основные проблемы – оппозиция город/деревня и трагические противоречия внутри самой деревни.
Были встречены как посланцы новой русской деревни. Группа была неоднородной: разные судьбы, разные идеологии, разный подход к освоению поэтической традиции. Поэтому это название хоть и традиционное, но достаточно условное.
Новокрестьянские поэты испытали воздействие символизма и акмеизма. Символисты испытывали к ним интерес из-за тенденций, свойственных им самим в годы, предшествующие Первой мировой войне: националистические настроения, размышления о «народной стихии», судьбах России, интерес к славянской мифологии. Те же тенденции наблюдались в религиозно-философских исканиях русской интеллигенции.
Скифы
Состав: Блок, Брюсов, Белый, Клюев, Есенин, Пастернак, Замятин. Из художников –Петров-Водкин. Из композиторов – Прокофьев.
Даты: Скифское движение поэтов и революционеров возникло в России в 1917 году. Стало вершиной русского Народничества и предтечей Евразийства.
Печать: два литературных сборника «Скифы» (1917, 1918 г.), газета «Знамя труда», журнал «Наш путь».
Суть: Все помнят октябрьскую революцию 1917 года как переворот Ленина и большевиков. Но революцию вместе с большевиками осуществляли и русские народники – левые эсеры. Скифское Движение шло с ними рука об руку, часть скифов – Сергей Есенин, Мария Спиридонова, Иванов-Разумник – были активистами этой партии. Другие печатались в левоэсеровских газетах. Они мыслили революцию совсем иначе.
У большевиков всё дышало ненавистью к народам и классам. А Революция Скифов должна была превратить Россию в райское поле людей-цветов. Революция должна была быть революцией любви, которая исцеляет ноющее народное сердце и наполняет мир красотой.
Революция должна привести к рождению Нового Человека – Скифа – Солнечного Русского. Этот человек открыт всем ветрам, природе, животным, кочевникам, духам.
Революция должна построить на Руси вольный и братский союз народов Евразии – Союз Скифских Республик.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЛЕВЫЙ ФРОНТ ИСКУССТВ - литературно-художественное объединение, созданное в Москве в декабре 1922 года
В «Левый Фронт Искусств», воз-глав-ляе-мый В.В. Мая-ков-ским , во-шли по-эты Н.Н. Асе-ев, В.В. Ка-мен-ский, С.И. Кир-са-нов, А.Е. Кру-чё-ных, Б.Л. Пас-тер-нак; ху-дож-ни-ки и ар-хи-тек-то-ры А.М. Род-чен-ко, В.Ф. Сте-па-но-ва, В.Е. Тат-лин, А.А. Вес-нин (смотри Вес-ни-ны) и др.; кри-ти-ки и тео-ре-тики искусства Б.И. Ар-ва-тов, О.М. Брик, Г.О. Ви-но-кур, В.Б. Шклов-ский, Н.Ф. Чу-жак. В ра-бо-те «Левого Фронта Искусств» при-ни-ма-ли уча-стие ки-но-ре-жис-сё-ры Д. Вер-тов, С.М. Эй-зен-штейн, Э.И. Шуб. Вы-хо-ди-ли жур-на-лы «ЛЕФ» (1923-1925 годы) и «Но-вый ЛЕФ» (1927-1928 годы); их об-лож-ки оформ-лял Род-чен-ко. Важ-ный ас-пект дея-тель-но-сти «Левого Фронта Искусств» - со-труд-ни-че-ст-во с Вху-те-ма-сом. Фи-лиа-лы «Левого Фронта Искусств» су-ще-ст-во-ва-ли в Одес-се (Юго-Леф) и Харь-ко-ве (Укр-Леф); со-об-ща-лось о дея-тель-но-сти «Левого Фронта Искусств» в Юго-сла-вии, раз-ра-ба-ты-ва-лись пла-ны со-з-да-ния Ин-тер-на-цио-на-ла ис-кусств на ос-но-ве ме-ж-ду-народной сек-ции жур-на-ла.
«Левый Фронт Искусств» унас-ле-до-вал от фу-ту-риз-ма от-ри-ца-ние тра-диционного искусства и на-це-лен-ность на соз-да-ние но-вых форм твор-че-ст-ва. Сре-ди но-вых про-грамм-ных по-ло-же-ний «Левого Фронта Искусств» - идея ис-кус-ст-ва как «жиз-не-строе-ния», тео-рия «со-ци-аль-но-го за-ка-за», от-ри-ца-ние вы-мыс-ла и вы-дви-же-ние на пер-вый план до-ку-мен-та («ли-те-ра-ту-ра фак-та»). Жан-ро-во-те-ма-тическая и сти-ли-стическая пе-ре-ори-ен-та-ция в об-лас-ти литературы бы-ла сфор-му-ли-ро-ва-на пи-са-те-лем С.М. Треть-я-ко-вым, од-ним из ве-ду-щих тео-ре-ти-ков «Левого Фронта Искусств», вы-сту-пив-шим с тре-бо-ва-ни-ем про-ти-во-пос-та-вить «бы-то-отоб-ра-жа-тель-ст-ву - агит-воз-дей-ст-вие; ли-ри-ке - энер-ги-че-скую сло-во-об-ра-бот-ку; пси-хо-ло-гиз-му бел-лет-ри-сти-ки - аван-тюр-ную изо-бре-та-тель-ную но-вел-лу ; чис-то-му ис-кус-ст-ву - га-зет-ный фель-е-тон, агит-ку; дек-ла-ра-ции - ора-тор-скую три-бу-ну; ме-щан-ской дра-ме - тра-ге-дию и фарс; пе-ре-жи-ва-ни-ям - про-из-вод-ст-вен-ные дви-же-ния» (Треть-я-ков С. От-ку-да и ку-да? // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 202).
В об-лас-ти изо-бра-зительного ис-кусства «Левый Фронт Искусств» стре-мил-ся по-стро-ить но-вое ре-во-люционное искусство на ос-но-ве ку-бо-фу-ту-риз-ма и кон-ст-рук-ти-виз-ма. При-зы-вал к соз-да-нию ути-ли-тар-ных про-из-ве-де-ний, имею-щих оп-ре-де-лён-ную функ-цию, и ра-то-вал за про-из-водственное искусство, от-ри-цая его стан-ко-вые фор-мы: «ху-до-же-ст-вен-ная куль-ту-ра бу-ду-ще-го соз-да-ёт-ся на фаб-ри-ках и за-во-дах» (Брик О.М. От кар-ти-ны к сит-цу // ЛЕФ. 1924. № 2. С. 34). Про-па-ган-ди-ро-вал аги-та-ци-он-ные и до-ку-мен-таль-ные жан-ры, фо-то-гра-фию (с ак-тив-ным ис-поль-зо-ва-ни-ем фо-то-мон-та-жа), ки-но-хро-ни-ку.
Чрез-мер-но рег-ла-мен-ти-ро-ван-ная про-грам-ма при-ве-ла «Левый Фронт Искусств» к внутреннему кри-зи-су. В конце 1920-х годов его ли-де-ры кон-ста-ти-ро-ва-ли пре-вра-ще-ние ле-фов-ских прин-ци-пов в дог-му, слу-жа-щую ин-те-ре-сам уз-кой груп-пы (ст. «Леф или блеф?» В. П. По-лон-ско-го, 1927; док-лад «Ле-вее Ле-фа» В. В. Мая-ков-ско-го, 1928). В сентябре 1928 года из со-ста-ва «Левого Фронта Искусств» вы-шли Мая-ков-ский и О.М. Брик, что оз-на-ча-ло фак-тический рас-пад груп-пы. В мае 1929 года Мая-ков-ский по-пы-тал-ся воз-ро-дить объ-е-ди-не-ние под названием «Ре-во-лю-ци-он-ный фронт ис-кусств» (РЕФ), од-на-ко дея-тель-ность РЕФа бы-ла не-про-дол-жи-тель-ной. Под ло-зун-гом кон-со-ли-да-ции сил в литературе Мая-ков-ский и Н.Н. Асе-ев в феврале 1930 года всту-пи-ли в Рос-сий-скую ас-со-циа-цию про-ле-тар-ских пи-са-те-лей.
С 1922 года Маяковский активно участвовал в деятельности художественной группы ЛЕФ, объединившейся вокруг одноимённого журнала, первый номер которого вышел в 1923 году. В группу входили также поэты Б. Пастернак, Н. Асеев, С. Третьяков, филологи В. Шкловский и О. Брик, представители других областей искусства - кинорежиссёр С. Эйзенштейн, кинооператор-документалист Дзига Вертов, фотограф А. Родченко и др.
Кратко художественную программу ЛЕФа можно определить как непосредственное отображение действительности: вместо «литературы вымысла» - «литература факта», вместо игрового кино - документальное, вместо живописи - фотография и т. д. Лефовцами выдвигались новые принципы искусства:
1) принцип социального заказа (художник должен писать на ту тему, которая наиболее актуальна для общества в данный момент);
2) принцип литературы факта (отбор материала для творчества - не вымысел, а факт как предмет искусства);
3) принцип «искусства-жизнестроения» (задача искусства - напрямую вторгаться в жизнь, приближая будущее).
В 1925 году журнал «Леф» прекращает своё существование, а ЛЕФ, просуществовавший до 1928 года, будет переименован в РЕФ (Революционный фронт искусств). Маяковский вышел из РЕФа, чтобы вступить в самую массовую литературную организацию того времени - РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей).
Насколько разнообразной была деятельность Маяковского в двадцатые годы, свидетельствует его работа в Российском телеграфном агентстве (РОСТА). В 1919-1922 годах он сотрудничал здесь сначала как художник и автор текстов, а затем и как руководитель мастерской по изготовлению плакатов «Окна РОСТА», предназначенных для вывешивания в витринах магазинов и отражающих злободневные политические и военные события. С приходом Маяковского плакаты приобрели структуру, напоминающую современные комиксы: серия рисунков, отображающая последовательно развивающиеся события, с краткими стихотворными подписями. Попытки сделать тексты более доступными малограмотному читателю обусловили обращение к стилизации под лубок. Рисунки и тексты к плакатам были анонимны, и сегодня точно установить авторство Маяковского не всегда возможно.
Работа в «Окнах РОСТА» стала для поэта лабораторией, где он освобождал стих «от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия» и развивал свой талант сатирика.
С 1923 года практически во всех произведениях Маяковский использует приём графической организации стиха - разбивку строк на осмысленные фрагменты так называемой «лесенкой». Сам Маяковский в статье «Как делать стихи?» объяснял появление «лесенки» необходимостью передать особенности интонации, звучания стиха, поскольку традиционная пунктуация слишком бедна для этого.
«Лесенка» появилась вместе с переходом Маяковского в систему тонического стихосложения. Тоническое стихосложение - это вид стихосложения, в котором совпадает только количество ударений, приходящихся на одну строку, а количество безударных слогов и размещение ударений произвольны.
Для тонического стиха Маяковского свойственна особая звучность, которая достигается тем, что поэт находит для стиха «громкие» рифмы и аллитерации. В тоническом стихе ослаблен внутристрочный ритм, не соблюдается порядок ударений, поэтому при обычных рифмах он будет звучать невыразительно. В дополнение к особым рифмам и усиленной аллитерации Маяковский использовал специальный типографский приём - «лесенку», т. е. он был вынужден печатать строку с разрывами, чтобы подчеркнуть, на какие единицы надо её разбивать при чтении. Ещё один приём - громкое, подчёркнуто отрывистое чтение, соответствующее разбивке на строки. Все эти приёмы, собранные Маяковским в его стихотворениях и давшие уникальный результат, показывают, насколько высокой поэтической техникой он владел. Поэт сумел обогатить русское стихосложение, но никто из его последователей не смог повторить успех мастера. Маяковский стал самым ярким представителем тонического стихосложения в русской поэзии.
Леф
ЛЕФ (Левый фронт искусств) - литературная группа левопопутнического толка, существовавшая с перерывами с 1923 до 1929. Основателями и фактически ее единственными членами явились: Н. Асеев, Б. Арватов, О. Брик, Б. Кушнер, В. Маяковский, С. Третьяков и Н. Чужак. Впоследствии к Л. примкнули С. Кирсанов, В. Перцов и др. Л. имел отделения в УССР (Юголеф). К Лефу идеологически примыкали сибирская группа «Настоящее» (см.), «Нова генерація» (см.) на Украине, «Лит.-мастацка комуна» (Белоруссия), закавказские, татарские лефовцы, а также отдельные литературоведы-формалисты, как В. Б. Шкловский, лингвисты (Г. Винокур) и др.
Свою родословную сами лефы ведут от известного манифеста русских футуристов «Пощечина общественному вкусу», изданного в 1912. После Октябрьской революции признавшие ее футуристы создали свою газету «Искусство коммуны» (1918), в которой сформулировали основные принципы будущей теоретической платформы Л. В начале 1923 группа начинает издавать свой журн. «Леф», к-рый закрылся в 1925. В 1927 был организован новый журнал меньшего объема «Новый Леф», прекративший свое существование к концу 1928. В начале 1929 группа Л. преобразовывается в Реф (Революционный фронт); в последнюю не вошли Третьяков, Чужак и др., оставшиеся на старых лефовских позициях. Со вступлением вождя Лефа и Рефа Владимира Маяковского в РАПП (начало 1930) группа перестала существовать, хотя отдельные лефовцы и рефовцы и до сих пор продолжают отстаивать свои теоретические и творческие принципы.
Несомненна мелкобуржуазная природа революционности раннего русского футуризма, вернее того крыла, которое было представлено и возглавлено Маяковским. Конкретнее - это течение выражало собой процессы радикализации части мелкобуржуазной интеллигенции в условиях предвоенного экономического кризиса и нарастания новой революционной пролетарской волны (1912-1914) (подробнее об этом см. «Маяковский» и «Футуризм»). Процесс этот протекал своеобразно и противоречиво. С одной стороны, полное и окончательное оформление контрреволюционной сущности буржуазного либерализма делало неприемлемой для указанной группы традиционную либеральную фразу; с другой стороны, эта группа далека и от пролетариата, единственного последовательно-революционного класса, способного руководить освободительной борьбой всех угнетенных (кратковременное, хотя и не случайное участие юноши Маяковского в большевистском подпольи не было все же типичным для группы в целом). Отсюда - и ограниченность раннего футуристского «бунта» преимущественно сферой литературно-эстетических проблем. Правда, воинствующие выступления футуристов против двух главных литературных школ буржуазно-помещичьей реакции - символизма и акмеизма - не являлись, как думают некоторые исследователи, простым расхождением различных тенденций внутри господствующего стиля, а знаменовали собой предреволюционный его кризис. Но в самой практике футуризма непосредственно социальные проблемы занимали, за исключением опять-таки того же Маяковского, ничтожное место. Там же, где они ставились (как например у раннего Маяковского), бросались в глаза беспредметность и бесперспективность социального протеста, сочетание напряженно-болезненного характера его выражения с крайней мизерностью и бессилием средств практической борьбы.
Со всем этим «багажом» наиболее радикальное крыло футуристов одним из первых встало на другой день после Октября на позицию сотрудничества с пролетариатом. Ставить таких русских футуристов, как Владимир Маяковский и некоторые другие, впоследствии в большинстве своем шедших в ногу с пролетарской революцией, на одну доску с футуризмом Маринетти, глашатаем итальянского империализма и фашизма, было бы глубокой ошибкой. С Маринетти, вождем итальянских футуристов, русские футуристы порвали еще в 1912. Пролетарская литература и марксистская критика всегда считали лучшую часть Л., несмотря на всю ошибочность его линии, группой своих левых попутчиков и ближайших союзников. Пролетарское литературное движение подходило к Лефу диференцированно, умело отличать революционных поэтов Маяковского и Асеева от буржуазных формалистов вроде Шкловского и противопоставлять положительную (хотя и содержащую серьезнейшие недостатки) творческую практику отдельных лефовцев ошибочной в целом теоретической линии группы.
Период пролетарской диктатуры, творчески поднявший, обогативший отдельных художников Л. (Маяковский, Асеев и некоторые др.) и приблизивший их к пролетариату, не ликвидировал однако противоречий, заключенных в самом исходном социальном пункте группы.
История теоретических воззрений Лефа есть в значительной своей части история революционной мелкобуржуазной группы, связавшей свою судьбу с пролетариатом и стремившейся эту связь реализовать в практическом действии. Трагедия группы состояла в том, что, ликвидируя свое прежнее мировоззрение, она не сумела включиться в активную борьбу за марксистское мировоззрение. Все свое внимание она сосредоточила на том, чтобы «разделаться со старой философской совестью». И тут неизбежно вступала в свои права обычная метафизика мелкобуржуазного революционизма. Расправа с старой совестью происходила в пределах именно этой последней, и потому анархическому бунтарству например была противопоставлена лишь его односторонняя метафизическая крайность в виде всевозможных деляческих теорий прагматического образца, первоначальному волюнтаризму - механистический объективизм и т. д. Крайности эти не снимали друг друга, мирно уживались, и здесь была богатая пожива буржуазным попутчикам Л., к-рые все время вели борьбу за его «душу». Крайне характерно, что сам Л. чаще всего акцентировал и выставлял на своем знамени лозунги активности, действенности, революционной целенаправленности. Но именно потому, что подлинное идейное наполнение этих лозунгов в творческой практике Л. свелось к субъективно-идеалистическому мелкобуржуазному активизму, Л. сплошь и рядом оказывался в плену у самого настоящего механистического фатализма.
Открещиваясь от философии вообще, лефы, как всегда бывает с отрицателями философии, попали в плен к самой скверной философии. Философскую основу лефизма образуют различные несогласованные между собой элементы учений, чуждые диалектическому материализму. В той явно эклектической смеси, которую представляла философия Лефа, формальный метод все время доминировал, хотя и не выступал в чистом виде. Как формалисты, так и лефы (первые более откровенно, вторые с оговорками и поправками) признавали свое взаимное духовное родство. «Формальный метод и футуризм, - не без основания писал напр. Б. Эйхенбаум, - оказались исторически связанными между собой». От формалистов Леф позаимствовал идеалистическое понимание художественной формы. Но охарактеризованное выше противоречие толкало теоретиков Лефа на путь эклектических и механистических попыток «присоединить» к формалистской трактовке формы нечто вроде социологического анализа (теория «формально-социологического метода» Б. Арватова, О. Брика и других). Этим они думали вытравить из формализма его буржуазно-эстетское нутро. Такая попытка была разумеется заранее обречена на неудачу, ибо означала на деле лишь воспроизведение формализма на новой основе. Этой постоянной борьбой между революционными устремлениями лефов и сковавшими их буржуазными идеалистическими предрассудками отмечено каждое из основных теоретических положений группы. Так например, борьба Л. против пассеистически некритического отношения к искусству прошлого пошла по совершенно неправильному пути именно в силу формалистского отрицания идеологии в искусстве, в силу понимания искусства как чистой формы. С нигилистическим отрицанием лефы относились и к буржуазному и дворянскому культурному наследству, не признавая и не понимая марксистско-ленинского тезиса о необходимости для пролетариата усвоить последнее на основе революционно-критической переработки. «Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности» - лозунг, выдвинутый футуристами в своем манифесте в 1912, фактически не был снят до последних дней существования Лефа (см. «Наследство»). Теоретики Лефа всячески пытались обосновать необходимость поэтического служения материальным интересам рабочего класса и социалистической революции. Но «помноженное» на Шкловских, на игнорирование идеологии в искусстве, на формалистское понимание искусства как голой формы, это стремление могло дать только глубоко реакционную лефовскую теорию «вещизма» и «вещетворчества». Писатели, по воззрениям лефов, творят не художественные произведения, не идеологические ценности, а вырабатывают, изобретают вещи. «Не идея, а реальная вещь - цель всякого истинного творчества» (О. Брик). Тот же О. Брик в «Новом Лефе», стараясь «разгромить» «Разгром» Фадеева, писал: «Нужно поставить перед литературой задачу: давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами... интерес к делу для нас основной, а интерес к человеку - интерес производный». «Мы - синдикат вещевиков», гордо декларировала группа. Т. к. люди для лефов представляли только «производный интерес», они изображали человека в законченном статичном виде, игнорируя диалектику общественного развития и борьбы классов.
Возражая против одной из разновидностей идеалистического понимания познавательной роли искусства (против теории «ви`дения» школы Воронского), Л., не пересматривая ничего в собственной идеалистической (формалистской) эстетике, теории «ви`дения» противопоставил вульгарно-материалистическое понимание искусства как «жизнестроения», как строения вещей, тем самым недооценивая идеологической сущности искусства. Отсюда вел прямой путь к лефовски понимаемому газетному очерку, которому лефы предоставили только роль «регистратора фактов», без их рационального отбора и осмысления. Таким образом через свой субъективный идеализм теоретики Лефа тесно смыкаются тут с объективизмом переверзианского толка. Перенеся центр тяжести на «вещи», лефы зачастую совершенно отрицали роль «субъективного фактора», «людей», т. е. классов, создающих и делающих «вещи» в процессе ожесточенной борьбы между собою. Но это и означало, что за внешним радикализмом лефовской эстетики скрывается объективистское стремление устранить из литературы действительную классовую борьбу.
В период «Нового Лефа» Л. выступает с теорией «литературы факта», выдвигая необходимость «выработки методов точной фиксации фактов». «Невыдуманную литературу факта» Л. ставит «выше выдуманной беллетристики». О. Брик полагает например, что «люди предпочитают слабо связанные реальные факты во всей их реальности, чем иметь дело с хорошо сложенным сюжетным построением». Правда, в других высказываниях лефы принуждены признать некоторую необходимость отбора фактов, но проблема критерия отбора - проблема мировоззрения писателя, критерий революционной практики совершенно выпадают из их внимания. Ратуя за «фактографию», лефы выступили против художественной литературы, против художественного «вымысла», «амнистируя» только злободневный газетный очерк, мемуары, дневники и т. п. «документальную» литературу.
Разбор «фактографической» теории приводит нас к самой гносеологической сердцевине лефизма. Кое-кому теория эта могла показаться последним словом материализма в вопросе творческого метода, на деле же «фактографизм» является лишь оборотной стороной формализма, этого приложения философского скептицизма, агностицизма, а в конечном итоге субъективизма и идеализма к вопросам теории искусства. Именно формальная школа, провозгласив искусство чистым «отношением» (В. Шкловский), чистой бессодержательной формой, не заключающей в себе ни грана объективного содержания, тем самым занимает позицию последовательного отрицания какого бы то ни было познавательного, а следовательно и общественно-практического значения искусства. Теория «факта» и явилась попыткой компромисса между этим исходным теоретическим воззрением лефовцев и их субъективной устремленностью в сторону пролетариата, их желанием работать на пользу социалистической революции. Но компромисс этот был порочен и реакционен в самой своей сути, ибо, 1) основываясь на метафизически-мертвенном представлении о материальном мире как о механической сумме уже законченных, готовых, неподвижных фактов-«вещей», совершенно игнорировал универсальную связь явлений, их движение в противоречиях, неизбежно игнорируя через это и борьбу классов в общественной жизни; 2) означал фактически капитуляцию перед буржуазным искусством, проповедь отказа от революционной борьбы за создание подлинно пролетарского коммунистического искусства и 3) отрицая искусство как будто во имя научного воспроизведения действительности, на деле дискредитировал подлинно революционную, марксистско-ленинскую науку, ни в какой мере не «фактографичную» и дающую наиболее глубокую и верную картину мира и общества в их конкретном движении, противоречиях и связях.
Критикуя художественный «вымысел», лефы оставались целиком на почве идеалистического (формалистского) понимания познавательного значения абстракции как в собственно науке, так и в искусстве. Марксо-ленинское понимание проблемы, глубочайшие ленинские замечания о роли фантазии в научном творчестве и политической борьбе - все это осталось для Л. книгой за семью печатями. Лефовская критика «вымысла», выражая субъективное отмежевывание ее представителей от буржуазной идеалистической эстетики, между тем на деле означала реформистскую проповедь «малых дел» в искусстве, проповедь мелкого, безыдейного, бесперспективного искусства. Практицизм Л. оказывался на поверку отрицанием подлинно революционной практики пролетариата, немыслимой без революционной теории, без огромной перспективы, без ориентации на завтрашний день, на конечную цель пролетарской борьбы. Лефы-«фактографы» барахтались в тине ползучего эмпиризма и мелкотравчатого делячества, которое дальше сегодняшнего дня ничего не видит.
Неспособный подняться до обобщений, вскрыть глубокие связи явлений, лефизм так. обр. стремится создать не столько осмысляющую, сколько регистрирующую литературу - «литературу факта». «Фактография» Лефа - это бессилие, возводимое в добродетель, бессилие подняться от восприятия явлений к познанию их сущности, законов их движения, не ограничивающегося конечно одним настоящим, как хотелось бы лефовцам.
Крайне характерно, что в своих требованиях («нам нужна жизнь, поданная, как она есть») «фактография» то и дело смыкалась с идеалистической теорией «непосредственных впечатлений», по которой писатель должен видеть мир безыскусственно и должен «отрешиться от всего, что вносит в непосредственное восприятие рассудок» (Воронский).
Высказываясь против художественной беллетристики, лефы полагали, что монументальные формы, большие полотна, как напр. эпопея, роман, типичны только для феодальной или буржуазной эпохи, литературой нашего времени может и должна быть только одна газета (Третьяков, Наш эпос - газета). «Поэтому газетчики выше беллетристов», декларировали лефы. От фетишизма вещей, «вещности» к «фактографии» - таков путь группы.
Свои нигилистические теории отрицания искусства, отказа от старого наследства, а также свои положительные теории «фактографии», «жизнестроения» лефы аргументировали необходимостью делать искусство, которое было бы доступно миллионам. Но, во-первых, в своей творческой практике (гл. образом в поэзии) лефы сами были далеко не всегда доступны массам: вычурность и заумь - частый спутник их художественной практики. Во-вторых, не всякая «простота» и «доступность» нужны пролетариату. Ленин, который как никто ставил вопрос о литературе для миллионов, вел в то же время систематическую и постоянную борьбу против «популярничанья» и снижения качества литературы для рабочих (см. хотя бы тезисы о «производственной пропаганде» и др.). Еще в «Что делать?» Ленин резко возражал против того, чтобы рабочие «замыкались» в искусственно суженные рамки «литературы для рабочих». «Вернее даже было бы сказать, вместо замыкались - были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты думают, что для рабочих достаточно рассказать о фабричных порядках и пережевывать давно известное».
Вульгаризируя самое понимание сущности искусства и литературы, лефы упрощенски понимали и самый литературный процесс. Вместо раскрытия классовых противоречий и борьбы в литературе лефы в большинстве случаев сводили вопросы творческого процесса к механическим взаимоотношениям между писателем как «кустарем»-производителем и читателем как «заказчиком», «потребителем». Теория «социального заказа» в самой вульгарной ее интерпретации не случайно зародилась в недрах лефов. «Поэт - мастер слова, - говорит О. Брик, - речетворец, обслуживающий свой класс, свою социальную группу. О чем писать - подсказывает ему потребитель». Последователь формально-социологического метода Б. Арватов полагает, правда, что «материал и структура литературного продукта определяются общественными способами производства и общественными способами его потребления». Указание на производственный фактор не ведет у Арватова к правильным выводам. Теория «социального заказа» у Арватова и Брика остается в основе идеалистической теорией, т. к. она предполагает, что творчество художника социально не обусловлено его классовым бытием и что писатель, паря над классом, творит художественные «вещи», приспособляясь к изменчивым запросам и вкусам читательских масс. Нетрудно в этой в конечном счете индетерминистической теории художественного творчества разглядеть новый вариант все того же анархического бунтарства, лишь деформировавшегося в силу определенных исторических условий в свою собственную якобы противоположность. Эта вредная теория, снимающая проблему мировоззрения и необходимости творческого и идеологического перевооружения для отдельных групп писателей, является идейным прикрытием всякой «красной» халтуры и приспособленчества - иначе говоря, широко открывает дверь всякого рода буржуазным тенденциям.
В отличие от механиста Переверзева, утверждавшего, что писатель вынужден оставаться в заколдованном кругу своего класса, с которым он якобы никак и никогда не в состоянии порвать, в отличие от Троцкого, восхищавшегося именно слабыми футуристическими сторонами лефовцев и высмеивавшего тенденции приближения лефовцев к коммунизму, подлинно марксистская критика теоретических установок Л. все время способствовала отслоению и отколу таких лефовцев - ближайших союзников пролетариата, как Маяковский и Асеев, от формалистов типа Шкловского и содействовала подготовке наиболее передовой части лефовцев, особенно Маяковского, к вхождению в ряды пролетарской литературы.
Теоретическая концепция лефов в настоящее время в основном разоблачена. Однако никак нельзя утверждать, что ликвидирована опасность лефовских влияний на пролетарское литературное движение. С переходом к реконструктивному периоду, с обострением классовой борьбы в стране, перед лицом соответствующих задач перестройки пролетарского литературного движения лефовские теории и лозунги стали одной из чрезвычайно активных форм мелкобуржуазного влияния на отдельные прослойки пролетарского литературного движения, влияния, выходящего за пределы небольшой группы лефовских интеллигентов. Внешний радикализм Л., простота и универсальность его творческой рецептуры, его специфический мелкобуржуазной активизм явились для некоторых элементов пролетарского литературного движения - независимо от их субъективных намерений - чрезвычайно удобной формой практического отказа от действительной борьбы за ликвидацию отставания пролетарской литературы, за диалектико-материалистический творческий метод, за большевистскую партийность. Особенно резкий и определяющий отпечаток лефовские влияния наложили на творческие установки Литфронта (см.), отдельные руководители и идеологи которого выступали преимущественно как «полпреды» Л. внутри пролетлитературы. К таковым относятся в первую очередь Б. Кушнер (см.) и И. Беспалов. У последнего лефовские тенденции «диалектически» дополняли исходную переверзианскую установку.
Б. Кушнер в статье о причинах отставания пролетарской литературы (в журнале «Красная новь» за 1930) выступает, как и старый Л., против «монументальных произведений», против «больших полотен». Б. Кушнер чисто по-формалистски считает эти «формы» (а не буржуазные и мелкобуржуазные влияния, а не недостатки мировоззрения и художественного метода!) главной причиной отставания пролетлитературы от требований реконструктивного периода («Громоздкая, малоподвижная, неуклюжая форма романа нередко является у нас причиной отрыва писательского творчества от революционных темпов наших дней»). Также вульгарно, механистически и формалистски Кушнер критиковал идеалистическую теорию «вынашивания», одновременно ликвидируя по сути дела самую проблему большевизации пролетлитературы. Аналогичные ошибки совершил И. Беспалов. Вместе с А. Зониным И. Беспалов примиренчески относился к ошибочной концепции Л. В статьях лидеров Литфронта (Беспалов, Гельфанд, Зонин и некоторые др.), написанных по случаю смерти Маяковского, были смазаны противоречия его поэзии, наличие в ней - даже в самом последнем периоде - элементов мелкобуржуазного «ячества», схематизма и проч. Лефизм творческих установок Литфронта был в сущности мелкобуржуазным дезертирством от трудностей нового этапа литературной революции пролетариата. Пролетарской литературе, стремившейся преодолеть эти трудности и овладеть диалектико-материалистическим художественным методом, пришлось вести непримиримую борьбу на два фронта: эта упорная борьба велась как против уклона к «воронщине» и переверзевщине, с одной стороны, так и против уклона к лефовщине - с другой стороны.
Несмотря на то, что теоретич. линия Л. была в основном реакционно-эклектической окрошкой из механицизма и формализма, все же из рядов Л. вышла и группа значительнейших мастеров (Маяковский, Асеев и некоторые др.), достижения к-рых в значительной мере входят в железный фонд революционной советской поэзии. В поэтической практике Маяковского, Асеева и др. осуществлялся действительный выход наиболее передовых элементов Л. за узкий круг буржуазно-идеалистических предрассудков литературной кружковщины в жизнь, в гущу классовой борьбы пролетариата и социалистического строительства. Здесь непосредственное воздействие пролетариата и его революционной практики было наиболее глубоким, длительным и прочным. Нельзя отрицать, что и в творческой продукции даже такого большого революционного поэта, как Маяковский, теоретическая концепция Л. до последнего времени сказывалась пережитками схематического, рационалистического, метафизического восприятия действительности, и эта постоянная борьба в самом творчестве В. Маяковского в свою очередь являлась выражением острой классовой борьбы в жизни и литературе. Рабочий класс окончательно отвоевывает здесь для себя лучшего из своих поэтических союзников. Именно в своей поэтической практике Маяковский дальше всего ушел от формалистов, и вряд ли можно было бы представить другое, более убедительное доказательство бесповоротного банкротства теоретической платформы Л., нежели творчество его вождя и основателя Маяковского. И это сказалось не только в объективных тенденциях поэзии Маяковского, но и в том резком разрыве со всей лефовской группой, которым поэт сопровождал свой переход в ряды пролетарского литературного движения. Другие поэтические соратники Маяковского (Асеев, Кирсанов) не сумели столь решительно и последовательно разорвать пуповину, все еще связывающую их со Шкловским и др. Несмотря на всю близость этих поэтов к революционному пролетариату, в их современной поэтической линии все еще наблюдаются известные тенденции к консервации лефизма. Надо думать, что с поворотом советской литературы к новым задачам соц. строительства лефовские пережитки будут ими преодолены.Библиография:
Чужак Н., К диалектике искусства, Чита, 1921; Его же, Через головы критиков, Чита, 1922; Его же, Марксизм и искусство, Попытка схематизации, «Правда», 1923, № 127, 10 июня; Его же, Под знаком жизнестроения, «Леф», 1923, I; Его же, К задачам дня, «Леф», 1923, II; Его же, Плюсы и минусы, «Леф», 1923, III; Его же, В драках за искусство (Разные подходы к «Лефу»), «Правда», 1923, № 186, 21 авг.; Его же, Литература. К худож. политике РКП, М., 1924; Авербах Л., По эту сторону литературных траншей, «На посту», 1923, I; Арватов Б., Искусство и классы, Гиз, Москва, 1923; Его же, Маркс о художественной реставрации, «Леф», 1923, III; Его же, Утопия или наука, «Леф», 1923, IV; Его же, Речетворчество, «Леф», 1923, II; Его же, Социологическая поэтика, М., 1928 (ср. Друзин В., Формально-социологический метод Б. Арватова, «На лит. посту», 1929, XVI); Асеев Н., Другой конец палки (по поводу статьи В. Полянского «О левом фронте в искусстве»), «Леф», 1923, III; Его же, Дневник поэта, Л., 1929; Винокур Г., Революционная фразеология, «Леф», 1923, III; Его же, Поэтика, лингвистика, социология, «Леф», 1923, III; Его же, О пуризме, «Леф», 1923, IV; Его же, Культура языка, Москва, 1925 (ст. «Речевая практика футуристов»); Воронский А. К., Искусство как познание жизни и современность, «Красная новь», 1923, V (и в сборнике его «Искусство и жизнь», М., 1924); Горлов Н., О футуризмах и футуризме (по поводу ст. Л. Троцкого «Футуризм»), «Леф», 1923, IV; Его же, Футуризм и революция, Гиз, М., 1923 (ср. Лелевич Г., О понимании футуризма т. Горловым, «Молодая гвардия», 1924, VII-VIII); Гроссман-Рощин И., Социальный замысел футуризма, «Леф» 1923, IV; Кушнер Б., Организация производства, «Леф», 1923, III; Его же, Причины отставания, «Правда» от 4 окт. 1930, и «Красная новь», 1930, XI; Полонский Вяч., Заметки. «Леф», «Печать и революция», 1923, IV-V; Его же, На литературные темы, М., 1927 (статьи: «Леф или блеф», «Блеф продолжается»); Его же, Очерки литературного движения революционной эпохи, издание 2-е, Гиз, М., 1929; Сосновский Л., Желтая кофта из советского ситца, «Правда», 1923, № 113, 24 мая (ср. ответы Сосновскому О. Брика, Н. Горлова и др. в «Лефе», 1923, III); Третьяков С., Леф и нэп, «Леф», 1923, II; Его же, Откуда и куда, «Леф», 1923, I; Его же, Трибуна Лефа, «Леф», 1923, III; Его же, Бьем тревогу, «Новый Леф», 1927, II; Брик О., От картины к ситцу, «Леф», 1924, II (6); Его же, За политику, «Новый Леф», 1927, I; Его же, За новаторство, «Новый Леф», 1927, I; Коган П. С., Литература этих лет, Иваново-Вознесенск, 1924 (гл. IX); Полянский В. (Лебедев П. И.), На литературном фронте, М., 1924 (ст. «О левом фронте в искусстве»); Его же, Вопросы современной критики, Гиз, М., 1927 (ст. «Социальные корни русской поэзии от символистов до наших дней»); Троцкий Л., Литература и революция, 2-е доп. издание, Гиз, М., 1924 (гл. IV); Малахов С., Русский футуризм после революции, «Молодая гвардия», 1926, X; Его же, Что такое футуризм, «Октябрь», 1927, II; Родов С., В литературных боях, М., 1926 (статьи: «Как Леф в поход собрался», «А король-то гол», «Майна, товарищи, майна»); Лежнев А., Вопросы литературы и критики, М., 1926 (статьи: «Леф и его творч. обоснования», «О книге Н. Чужака - Литература, «О книге Н. Горлова - Футуризм и революция и др.); Его же, Современники, М., 1927 (ст. «Дело о трупе», «Новый Леф»); Перцов В., График современного Лефа, «Новый Леф», 1927, I; Крученых А., 15 лет русского футуризма, М., 1928; Нусинов И., О социальном заказе, «Литература и марксизм», кн. II, 1928; Асмус В., В защиту вымысла (Литература факта и факты литературы), «Печать и революция», 1929, II; Беспалов И., Против грамотности, «Печать и революция», 1929, IX; Горелов А., Литература факта, «Звезда», 1929, X; «Литература факта». Первый сборник материалов работников Лефа, под редакцией Н. Чужака, изд. «Федерация», М., 1929 (отзывы: Тарасенков А., «Печать и революция», 1929, VIII); Саянов В., Современные литературные группировки, издание 2-е, Ленинград, 1930. См. также в статье «Футуризм», «Маяковский» и др.
Литературная энциклопедия. - В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература
. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929-1939 .